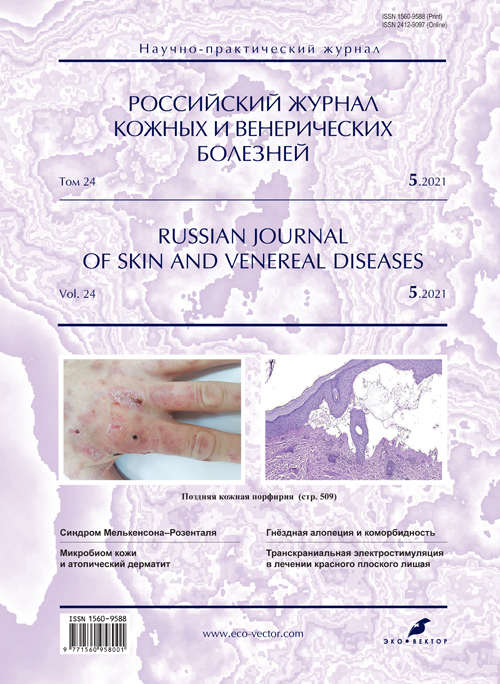Efficiency of appliance of cranial electrotherapy stimulation and fabomotizole medication as part of combination therapy of patients with lichen ruber planus
- Authors: Tlish M.M.1, Osmolovskaya P.S.1
-
Affiliations:
- Kuban State Medical University
- Issue: Vol 24, No 5 (2021)
- Pages: 467-476
- Section: CLINICAL PICTURE, DIAGNOSIS, AND THERAPY OF DERMATOSES
- Submitted: 08.12.2021
- Accepted: 27.01.2022
- Published: 12.09.2021
- URL: https://rjsvd.com/1560-9588/article/view/89959
- DOI: https://doi.org/10.17816/dv89959
- ID: 89959
Cite item
Full Text
Abstract
BACKGROUND: Taking into consideration importance of a stress factor in the pathogenesis of lichen ruber planus, it seems reasonable and promising to include safe and effective methods for its correction in the therapy of such patients.
AIMS: To evaluate efficiency of the combination therapy in patients with lichen ruber planus with inclusion of cranial electrotherapy stimulation and fabomotizole medication.
MATERIALS AND METHODS: The object of the study included 65 patients (42 women ― 64.6% and 23 men ― 35.4% at the ages from 18 to 75 (43.8±15.3 years) with a common typical form of lichen ruber planus. Duration of the disease ranged from 1 to 42 months (13.3±11.6 months). Two groups were formed by the method of adaptive randomization. In the main group (n=33), patients received chloroquine of 250 mg orally twice a day, topical glucocorticosteroids and additionally cranial electrotherapy stimulation. In the comparison group (n=32), the similar therapy was carried out, but instead of cranial electrotherapy stimulation, fabomotizole of 10 mg was prescribed orally 3 times a day after meals. The course of hospital treatment in both groups was 21 days, the follow-up was 12 weeks. Results of the therapy were assessed on the 7; 14 and 21st days. The examination algorithm included: assessment of clinical manifestations taking into account the Index Lichen Planus; the impact of pruritus on the daily life of patients with the help of the generally accepted Behavioral rating scores questionnaire; study of the psychoemotional state of patients using the Dermatology Life Quality Index, Hamilton Anxiety Scale and Hamilton Depression Rating Scale.
RESULTS: Before prescription of the therapy in both groups, there were no statistically significant differences (p >0.001) in the studied indices, scales, and questionnaire. After the combination therapy in association with cranial electrotherapy stimulation in patients of the main group, starting from the 7th day of the therapy, significantly more favorable results were achieved in terms of the studied parameters (Index Lichen Planus, Dermatology Life Quality Index, Hamilton Anxiety Scale and Hamilton Depression Rating Scale). As for the effect of pruritus on the daily activities of patients (Behavioral rating scores questionnaire), in both groups there was its equally statistically significant (p <0.001) decrease. Patients of the main group and the comparison group tolerated the treatment well, there were no side effects.
CONCLUSIONS: In the main group, using cranial electrotherapy stimulation, normalization of indicators reflecting the activity of the skin pathological process, psychoemotional state and dermatology life quality was statistically significant and took place within a shorter period of time.
Full Text
ОБОСНОВАНИЕ
Актуальность поиска новых путей повышения эффективности терапии красного плоского лишая (КПЛ) обусловлена распространённостью дерматоза, торпидностью к проводимой традиционной терапии, а также увеличением количества пациентов с тяжёлыми и рецидивирующими формами. Болезнь поражает в первую очередь взрослых (от 30 до 60 лет) людей, чаще регистрируется у лиц женского пола [1]. Удельный вес дерматоза в общей структуре дерматологических болезней составляет от 1,5 до 2,5%, а среди болезней слизистой оболочки полости рта ― 32,0% [2].
КПЛ является хроническим иммуноопосредованным воспалительным заболеванием, поражающим в основном кожу и слизистую оболочку полости рта [3]. Механизмы, участвующие в патогенезе заболевания, до конца не выяснены, однако, по мнению ряда авторов, основной причиной его развития является аутоиммунная деструкция базальных кератиноцитов эпидермиса [4]. На современном этапе КПЛ рассматривается как мультифакторное заболевание, в формировании, характере течения и исходе которого определённую роль играют как эндогенные, так и экзогенные причины. Наиболее часто обсуждают токсико-аллергическую, инфекционную, иммунологическую, мембранодеструктивную теории, а также роль функциональных и органических расстройств нервной системы [5, 6].
Клинически дерматоз проявляется зудящими плоскими фиолетовыми полигональными папулами и бляшками, которые симметрично локализуются на сгибательных поверхностях верхних конечностей, передней поверхности голеней, половых органах и слизистых оболочках ротовой полости. По некоторым данным, КПЛ часто протекает на фоне различных патологий желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, эндокринопатий [7].
В федеральных клинических рекомендациях терапия распространённых форм КПЛ предусматривает использование системных глюкокортикоидов, антималярийных препаратов, ароматических ретиноидов, цитостатиков, физиотерапевтических методов (ПУВА-терапии). Для купирования зуда допускается использование препаратов, обладающих антигистаминной активностью ― H1-блокаторов и анксиолитика гидроксизина. Таким образом, в основе действия подавляющего большинства препаратов, используемых в терапии КПЛ, лежит коррекция иммунного ответа, а также подавление воспалительной активности [6].
Некоторые авторы полагают, что эмоциональный стресс является не только ключевым фактором в возникновении КПЛ, но также играет существенную роль в течении дерматоза, его тяжести и реакции на терапию [5, 8]. По современным представлениям, стресс способствует запуску нейроэндокринной реакции с последующим изменением иммунного ответа, что приводит к острому или хроническому воспалению в коже [5]. У преобладающего числа больных КПЛ обнаруживаются стресс, тревога, беспокойство, чувство растерянности, нарушение сна, которые служат триггером в запуске или обострении заболевания [9, 10]. Кроме этого, косметический дефект и субъективные ощущения в виде зуда являются дополнительными стрессорами, утяжеляющими течение болезни и снижающими качество жизни. Распространённость тревоги и депрессии у пациентов с КПЛ, по разным данным, варьирует от 21 до 92% [11–13]. Такие сведения служат обоснованием для включения в комплексное лечение таких больных безопасных психотерапевтических методов воздействия.
Рассматривая патогенез КПЛ с позиции стрессового повреждения кожи, ключевое значение приобретают данные о протекторном эффекте стресс-лимитирующей системы организма, основное действие которой направлено на выработку нейропептидов, в частности β-эндорфинов ― известных «гормонов счастья», под действием которых происходит адаптация организма к стрессору [14]. Одним из методов, способных воздействовать на стресс-лимитирующую систему организма, является транскраниальная электростимуляция (ТЭС). Метод разработан В.П. Лебедевым и группой его сотрудников в институте И.П. Павлова (Санкт-Петербург) [15]. В литературе описаны центральные и периферические эффекты ТЭС-терапии: регуляция психофизиологического состояния, антистрессорное воздействие, нормализация вазомоторных дисфункций и гормонального статуса, аналгезия, противозудное и иммуномодулирующее действие, ускорение репаративного регенерирования повреждённых тканей [15]. Кроме этого, ТЭС-терапия характеризуется безопасностью, высокой эффективностью, простотой применения, доступностью и экономической рентабельностью. Учитывая вышесказанное, применение данного метода для лечения больных КПЛ представляется перспективным и целесообразным.
Имеются отечественные работы, свидетельствующие о положительном терапевтическом результате ТЭС у больных с различными дерматозами (псориаз, экзема, атопический дерматит, акне) [16–18]. Показана клиническая эффективность данного метода у больных КПЛ с локализацией процесса только на слизистой оболочке полости рта [19].
Важным фактором, поддерживающим стрессовую реакцию у больных КПЛ, может быть зуд. В федеральных клинических рекомендациях для купирования распространённых форм дерматоза предусмотрено применение анксиолитика ― гидроксизина [6]. Действие препарата направлено не только на симптоматическое уменьшение зуда, но и купирование симптомов, связанных с тревожными и депрессивными расстройствами, в связи с чем его также можно применять для стабилизации имеющихся психосоматических состояний у пациентов с КПЛ. Однако сдерживающим фактором к широкому использованию гидроксизина являются побочные эффекты, связанные со снижением скорости психомоторных реакций у больных. В частности, это касается пациентов, управляющих транспортными средствами, или профессия которых сопряжена с другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания [20, 21]. В связи с этим представляется целесообразным использование селективного анксиолитика ― фабомотизола, не имеющего перечисленных выше побочных эффектов гидроксизина. При его применении не формируется лекарственная зависимость, не развивается синдром отмены. При этом фабомотизол оказывает модулирующее действие на нейромедиаторные системы мозга, патология которых играет значимую роль в развитии депрессии, тревоги, нарушении сна и т.д. [22]. Имеются также сведения о выраженном противозудном действии фабомотизола [23].
Цель исследования ― оценить эффективность комплексной терапии с применением транскраниальной электростимуляции и препарата фабомотизол у больных КПЛ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Дизайн исследования
Проведено открытое проспективное рандомизированное сравнительное исследование.
Критерии соответствия
Критерии включения: наличие верифицированного диагноза; возраст от 18 лет и старше; строгое соблюдение медицинских рекомендаций и графика обследования.
Критерии исключения: беременность или лактация на момент исследования; тяжёлая соматическая патология; индивидуальная непереносимость используемых препаратов; наличие общих и частных противопоказаний для применения физиотерапевтического метода ТЭС (гипертоническая болезнь III стадии, травмы и опухоли головного мозга, судорожные состояния, эпилепсия, гипертонический криз, наличие вживлённых электростимуляторов, гидроцефалия, острые психические расстройства, повреждение кожи в местах наложения электродов); наличие противопоказаний к используемым в терапии лекарственным препаратам.
Условия проведения
Все пациенты находились на стационарном лечении в ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения Краснодарского края (Краснодар). Исследование проводилось на кафедре дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России (КубГМУ) на базе ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» Минздрава России в период с июня 2020 г. по ноябрь 2021 г.
Продолжительность исследования
Длительность стационарного лечения в обеих группах составила 21 день, период наблюдения после терапии ― 12 недель.
Описание медицинского вмешательства
Каждому пациенту проводилось клиническое обследование, которое включало сбор анамнеза, жалоб, осмотр кожи и слизистых. Для исключения наличия тяжёлого соматического заболевания, являющегося противопоказанием к участию в проводимом исследовании, все пациенты были проконсультированы смежными специалистами (терапевтом, кардиологом, стоматологом, гастроэнтерологом, окулистом, неврологом, эндокринологом).
Манифестация и обострение дерматоза у большинства больных (46; 70,8%) были связаны с периодами острого психологического стресса или длительной тревожностью, у 3 (4,6%) ― с перенесёнными инфекционными болезнями, у 1 (1,5%) ― с приёмом медикаментов, у 8 (12,3%) ― с имеющейся соматической патологией. Ещё 7 (10,8%) больных причину обострения указать не смогли.
У всех пациентов присутствовал зуд различной интенсивности ― от лёгкого до умеренного. Такие данные послужили поводом к включению в комплексное лечение ТЭС-терапии и фабомотизола.
Все пациенты методом адаптивной рандомизации были разделены на две группы: в основную вошли 33 (50,7%) человека в возрасте от 18 до 75 (43,0±15,9) лет, из них мужчин 11 (33,0%), женщин ― 22 (67,0%), в группу сравнения ― 32 (49,3%) человека в возрасте от 18 до 74 (44,5±14,7) лет, из них мужчин 12 (37,5%), женщин ― 20 (62,5%). Течение кожного патологического процесса имело как подострый, так и хронический характер. В основной группе больные получали лечение в соответствии с федеральными клиническими рекомендациями (хлорохин по 250 мг перорально 2 раза/сут, топические глюкокортикоиды) и дополнительно ТЭС-терапию при помощи импульсного электростимулятора «Трансаир-03» (Россия) в режиме 77,5 Гц, начиная с тока не менее 1,5 мА. На каждом последующем сеансе силу тока увеличивали на 0,2–0,4 мА. Процедуру продолжительностью 40 мин проводили ежедневно. Курс составлял 14 процедур. В группе сравнения проводилась аналогичная терапия, но вместо ТЭС назначался фабомотизол по 10 мг перорально 3 раза в день после еды. Курс терапии ― 28 дней.
Результаты терапии оценивали на 7; 14 и 21-е сутки. Определён единый алгоритм обследования, который включал оценку клинических проявлений при помощи индекса дерматологического статуса (Index Lichen Planus, ILP) и влияния зуда на повседневную жизнь пациентов с помощью общепринятой поведенческой рейтинговой шкалы (Behavioral rating scores, BRS); изучение психоэмоционального состояния больных при помощи дерматологического индекса качества жизни (ДИКЖ), шкалы тревоги Гамильтона (Hamilton Anxiety Rating Scale, HAM-A) и шкалы депрессии Гамильтона (Hamilton Rating Scale for Depression, HAM-D).
Этическая экспертиза
Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, протокол № 89 от 26.06.2020. У всех больных получено информированное письменное согласие на проведение исследования.
Статистический анализ
Расчёт размера выборки производился с помощью анализа мощности по критерию Стьюдента для независимых выборок с параметрами α=0,05, мощность 90%. Было подсчитано, что для выявления различий между двумя независимыми группами потребуется не менее 33 пациентов в каждой группе. Анализ мощности проводился в пакете R Studio (2000-2021 R-Tools Technology Inc.), команда: pwr.t.test (d=0.81, sig.level = .05, power = .9, type = «two.sample», alternative = «two.sided»).
Статистический анализ данных проводили с использованием пакета SPSS Version 26 (IBM, Чикаго, США). Проверку соответствия количественных данных критерию нормальности проводили с помощью критерия Шапиро–Вилка (Shapiro–Wilk Test), по результатам анализа которого данные были признаны непараметрическими. Соответственно, для статистического описания изучаемых клинических признаков использовали медиану (Me) и межквартальный диапазон (Q1–Q3). Для статистического сравнения средних значений по тестам в клинических группах использовали непараметрический критерий Манна–Уитни для двух независимых выборок (Mann–Whitney U-test). Сравнение средних значений по тестам в различные периоды скрининга (до лечения, на 7; 14 и 21-е сутки) проводили с использованием теста Вилкоксона (Wilcoxon test) для двух связанных выборок.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Объекты (участники) исследования
Под нашим наблюдением находились 65 больных в возрасте от 18 до 75 (43,8±15,2) лет с распространённой типичной формой КПЛ, мужчин было 23 (35,4%), женщин ― 42 (64,6%). Поражение слизистой оболочки полости рта наблюдалось у 13 из них, гениталий ― у 4, ногтевых пластин ― у 5. Длительность заболевания составляла от 1 до 42 (13,3±11,6) месяцев.
Распределение включённых в исследование пациентов по полу, возрасту, соматической патологии, клиническим и психологическим характеристикам показало отсутствие достоверных различий между сравниваемыми группами. В группах преобладали лица женского пола ― 42 (64,6%) против 23 (35,4%) мужчин. Подавляющее число больных имели постоянную работу ― 33 (50,8%), второе место заняли пенсионеры ― 15 (23,1%), третье ― временно неработающие (9; 13,8%), четвёртое ― учащиеся (5; 7,7%); 3 (4,6%) были домохозяйками. Среди сопутствующих заболеваний выявлены сердечно-сосудистый синдром (у 21; 32,3%), а также заболевания желудочно-кишечного тракта (у 31; 47,7%), гепатобилиарной (у 7; 10,8%) и эндокринной (у 6; 9,2%) системы.
Выявленный уровень тревоги и депрессии у испытуемых по шкале Гамильтона соответствовал умеренным проявлениям, при этом тревога выявлена в 47 (72,3%) случаях, депрессия ― в 39 (60,0%); остальные 26 (40,0%) пациентов не имели нарушений со стороны психоэмоциональной сферы.
Основные результаты исследования
В результате проведённого лечения у пациентов основной группы зарегистрирован значимый положительный эффект с тенденцией к нормализации практически по всем применяемым оценочным шкалам и индексам, в отличие от больных группы сравнения.
Пациенты хорошо переносили лечение, нежелательных побочных эффектов в обеих группах не зафиксировано.
Исходные показатели ILP в двух группах статистически не отличались (p=0,060) и соответствовали среднетяжёлому течению дерматоза. На 7-е сутки лечения, по сравнению с первыми, на фоне проведённой терапии в основной группе зафиксировано статистически значимое снижение показателей ILP на 5 баллов (p <0,001), тогда как в группе сравнения ― на 1,5 балла (p <0,001) (таблица). На 14-е сутки от начала лечения ILP снизился в основной группе на 9 баллов (p <0,001), а в группе сравнения ― на 5 баллов (p <0,001); на 21-е сутки ― на 11 (p <0,001) и 8 (p <0,001) баллов соответственно (см. таблицу).
Таблица. Показатели уровней дерматологического статуса (ILP), дерматологического индекса качества жизни (ДИКЖ), выраженности зуда (BRS), тревоги (HAM-A) и депрессии (HAM-D) по шкале Гамильтона / Table. Index Lichen Planus (ILP), dermatological quality of life index (DIQIQ), severity of itching (BRS), Hamilton anxiety (HAM-A) and Hamilton depression (HAM-D)
Показатель | Группа | До лечения | 7-й день лечения | 14-й день лечения | 21-й день лечения | ||||||
Me (Q1–Q3) | Me (Q1–Q3) | p2 | Me (Q1–Q3) | p2 | р3 | Me (Q1–Q3) | p2 | р3 | р4 | ||
ILP | Основная группа | 13 (12–15) | 8 (7–9) | <0,001 | 4 (3–6) | <0,001 | <0,001 | 2 (1–2) | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
Группа сравнения | 12 (9,25–15) | 10,5 (8,25–12) | <0,001 | 7 (6–8) | <0,001 | <0,001 | 4 (3,25–5) | <0,001 | <0,001 | <0,001 | |
p1 | 0,060 | 0,001 | - | <0,001 | - | - | <0,001 | - | - | - | |
ДИКЖ | Основная группа | 15 (12–17) | 11 (10–13) | <0,001 | 6 (5–8) | <0,001 | <0,001 | 5 (4–5) | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
Группа сравнения | 15 (12,75–17) | 13 (12–16) | <0,001 | 9 (8–10) | <0,001 | <0,001 | 7 (6–7) | <0,001 | <0,001 | <0,001 | |
p1 | 0,175 | <0,001 | - | <0,001 | - | - | <0,001 | - | - | - | |
BRS | Основная группа | 3 (3–3) | 2 (1–2) | <0,001 | 1 (0–1) | <0,001 | <0,001 | 0 (0–0) | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
Группа сравнения | 3 (3–4,75) | 2 (2–3) | <0,001 | 1 (0,25–2) | <0,001 | <0,001 | 0 (0–1) | <0,001 | <0,001 | <0,001 | |
p1 | 0,632 | 0,781 | - | 0,144 | - | - | 0,110 | - | - | - | |
HAM-A | Основная группа | 14 (11–19) | 9 (7,5–15) | <0,001 | 6 (7–9) | <0,001 | <0,001 | 6 (5–7) | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
Группа сравнения | 15 (8,25–17,75) | 12 (7,5–15,75) | <0,001 | 9 (6,25–13) | <0,001 | <0,001 | 8 (6,25–10) | <0,001 | <0,001 | <0,001 | |
p1 | 0,517 | 0,014 | - | <0,001 | - | - | <0,001 | - | - | - | |
HAM-D | Основная группа | 8 (6–12,5) | 6 (5–9) | <0,001 | 4 (3–7) | <0,001 | <0,001 | 4 (3–6,5) | <0,001 | <0,001 | 0,001 |
Группа сравнения | 9 (6–13,75) | 8 (6–12) | 0,002 | 7 (6–8) | <0,001 | <0,001 | 6 (6–8) | <0,001 | <0,001 | 0,102 | |
p1 | 0,298 | 0,023 | - | <0,001 | - | - | <0,001 | - | - | - | |
Примечание. р1 ― результаты статистического сравнения показателей тестирования между клиническими группами (использован U-тест Манна–Уитни); р2 ― результаты статистического сравнения средних значений по тестам в определённый период лечения по сравнению с состоянием до лечения (использован тест Вилкоксона); р3 ― результаты статистического сравнения средних значений по тестам в определённый период лечения по сравнению с состоянием через 7 дней лечения (использован тест Вилкоксона); р4 ― результаты статистического сравнения средних значений по тестам в определённый период лечения по сравнению с состоянием через 14 дней лечения (использован тест Вилкоксона).
Таким образом, совокупная оценка регресса клинической симптоматики и динамика ILP свидетельствуют о преимуществе комплексного лечения с применением ТЭС-терапии в отличии от комплексной терапии с включением фабомотизола.
По мере регресса кожного патологического процесса происходило постепенное угасание ДИКЖ. Показатели данного индекса в обеих группах до лечения были достаточно высокими и не отличались (p=0,175). Полученные результаты свидетельствовали о значительном влиянии заболевания на жизнь больных (см. таблицу). На 7; 14 и 21-е сутки в основной группе отмечено снижение данных показателей, по сравнению с первыми сутками, на 4; 9 и 10 баллов соответственно (p <0,001), тогда как в группе сравнения ― на 2; 6 и 8 баллов соответственно (p <0,001). Сравнение показателей ДИКЖ после лечения между группами выявило статистически значимое отличие (p <0,001), т.е. после применения комплексной терапии в сочетании с ТЭС наблюдалась более выраженная положительная динамика всех составляющих ДИКЖ (см. таблицу).
При оценке влияния зуда на повседневную жизнь больных использовали опросник BRS. Его исходные показатели статистически существенно не отличались в обеих группах (p=0,632). На фоне лечения у пациентов основной группы показатели BRS были незначительно лучше, однако статистически значимо они не отличались. На 7; 14 и 21-е сутки в основной группе и группе сравнения показатели BRS уменьшились на 1; 2 и 3 балла соответственно (p <0,001) (см. таблицу).
Тревога у пациентов при заполнении шкалы HAM-A была выявлена в 47 (72,3%) случаях, депрессия (по HAM-D) ― в 39 (60,0%). Медиана балла по шкалам HAM-A и HAM-D у больных до лечения в двух группах соответствовала умеренным проявлениям тревоги и депрессии и статистически не отличалась (p=0,517 и p=0,298). В процессе лечения в основной группе отмечен более выраженный благоприятный эффект ― уменьшение проявления тревоги на 7-е сутки на 5 баллов, на 14-е ― на 8, на 21-е ― на 8 (p <0,001), депрессии ― на 2; 4 и 4 балла (p <0,001) соответственно по отношению к группе сравнения, где тревога уменьшилась на 3; 6 и 5 (p <0,001), а депрессия ― на 1; 2 и 3 балла (p <0,001) соответственно (см. таблицу).
При осмотре больных через 12 недель по окончании терапии рецидивы КПЛ в группе сравнения имели место у 8 (25,0%) пациентов, в основной группе ― только у 3 (9,0%) (p <0,001).
ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования показывают, что у пациентов основной группы при помощи комплексной терапии с включением ТЭС достигнута более выраженная терапевтическая эффективность практически по всем изучаемым показателям (ILP, ДИКЖ, HAM-A и HAM-D). Все пациенты этой группы достаточно хорошо переносили лечение, побочных эффектов не обнаружено. К концу терапии у больных отмечались приподнятость настроения, нормализация сна, стабилизация эмоционального фона, уменьшение жалоб соматического характера, что, вероятно, связано с эндорфининдуцирующим действием ТЭС-терапии, которое сопровождается снижением тревожности, повышением стрессоустойчивости, что, в итоге, стабилизирует психоэмоциональный фон больного.
У пациентов группы сравнения по изучаемым параметрам (ILP, ДКЖ, HAM-A и HAM-D) также отмечалась положительная динамика, однако полученные результаты оказались статистически менее значимыми. Необходимо отметить, что больные этой группы достаточно хорошо переносили терапию, нежелательные явления не зарегистрированы.
В обеих группах отмечено одинаково хорошее, статистически значимое (p <0,001) снижение показателей по опроснику BRS.
Проведённое исследование во многом согласуется с зарубежными и отечественными работами, в которых доминирующее значение в манифестации дерматоза придаётся психогенному фактору. Так, L. Manolache и соавт. [24] в своей работе сделали вывод, что стрессовые ситуации не только могут спровоцировать развитие КПЛ, но и повлиять на его течение. N.S. Sawant и соавт. [5] тоже продемонстрировали связь заболевания со стрессом и зафиксировали нарушение качества жизни в 91% случаев. Наша работа сопоставима с вышеизложенной, так как показывает, что КПЛ практически у 100% больных оказывает сильное влияние на различные аспекты их жизни. Такие высокие показатели снижения качества жизни связаны, скорее всего, с наличием распространённых высыпаний, субъективных симптомов, присутствием эффлоресценций на открытых участках тела. В связи с этим пациенты испытывают повышенный психологический дискомфорт, который, в итоге, приводит к ограничению социальной и профессиональной адаптации. Имеются и другие работы, подтверждающие сильное влияние КПЛ на качество жизни пациентов [25, 26].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные позволили выявить преимущество комплексного лечения с применением ТЭС-терапии по сравнению с группой, принимавшей фабомотизол, что выражалось более быстрой и статистически значимой нормализацией показателей, отражающих активность кожного патологического процесса, психоэмоционального фона и дерматологического качества жизни.
На наш взгляд, важно раннее выявление психологических проблем у больных КПЛ и их коррекция с помощью включения в традиционное лечение безопасных и эффективных психотерапевтических методов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Источник финансирования. Исследование проведено за счёт бюджетных средств организации.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Вклад авторов. М.М. Тлиш ― концепция и дизайн исследования, анализ и интерпретация результатов исследования, редактирование текста, утверждение итогового варианта текста рукописи; П.С. Осмоловская ― анализ и интерпретация результатов исследования, написание и редактирование текста, статистическая обработка данных. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).
ADDITIONAL INFORMATION
Funding source. The research was carried out at the expense of the organization’s budgetary funds.
Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.
Author contribution. M.M. Tlish ― the concept and design of the study, analysis and interpretation of the results of the study, editing the text, approval of the final version of the text of the manuscript; P.S. Osmolovskaya ― analysis and interpretation of the results of the study, writing and editing the text, statistical data processing. The authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis of literature, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.
About the authors
Marina M. Tlish
Kuban State Medical University
Email: tlish_mm@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-9323-4604
SPIN-code: 8452-4062
MD, Dr. Sci. (Med.), Professor
Russian Federation, 4, Sedina Street, Krasnodar, 350063Polina S. Osmolovskaya
Kuban State Medical University
Author for correspondence.
Email: polina_osmolovskaya@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-6764-0796
SPIN-code: 1358-3426
MD, Assistant Lecturer
Russian Federation, 4, Sedina Street, Krasnodar, 350063References
- Marquez LK, Santos LR, da Silva NC, et al. Oral lichen planus associated with lichen pigmentosa and lichen sclerosus in monozygotic twins. Am J Dermatopathol. 2021;43(5):368–372. doi: 10.1097/DAD.00000000000001847
- Molochkova YV, Molochkov VA, Grineva NK. Frequency and features of various forms of lichen planus in the Moscow region. Almanac Clin Med. 2018;46(1):82–87. (In Russ). doi: 10.18786/2072-0505-2018-46-1-82-87
- Georgescu SR, Mitran CI, Mitran MI, et al. Oxidative stress in cutaneous lichen planus ― a narrative review. J Clin Med. 2021;10(12):2692. doi: 10.3390/jcm10122692
- Gorouhi F, Davari P, Fazel N. Cutaneous and mucosal lichen planus: a comprehensive review of clinical subtypes, risk factors, diagnosis, and prognosis. Sci World J. 2014;2014:742826. doi: 10.1155/2014/742826
- Sawant NS, Vanjari NA, Khopkar U, et al. A study of depression and quality of life in patients of lichen planus. Sci World J. 2015;2015:817481. doi: 10.1155/2015/817481
- Kubanov AA, Perlamutrov YU, Olisova OY, et al. Federal clinical guidelines. RODVK. LP 2020. (In Russ). Available from: https://www.rodv.ru/klinicheskie-rekomendacii/. Дата обращения: Accessed: 15.03.2021.
- Anisimova IV, Simonyan LA. The frequency of the combination of lichen planus with somatic pathology and local adverse factors of the oral cavity. Problems Dentistry. 2019;15(1):16–22. (In Russ). doi: 10.18481/2077-7566-2018-15-1-16-22
- Mansur AT, Kilic Z, Atalay F. Psychological evaluation of patients with cutaneous lichen planus. Dermatol Psychosomatics. 2004;5(3):132–136. doi: 10.1159/000081157
- Jalenques I, Lauron S, Almon S, et al. Prevalence and odds of signs of depression and anxiety in patients with lichen planus: systematic review and meta-analyses. Acta Derm Venereol. 2020;100(18):00330. doi: 10.2340/00015555-3660
- Dorozhenok IY, Matyushenko EN, Olisova OY. Dysmorphophobia in dermatological practice. Russian Journal of Skin and Venereal Diseases. 2014;17(1):42–47. (In Russ).
- Lundqvist EN, Wahlin YB, Bergdahl M, et al. Psychological health in patients with genital and oral erosive lichen planus. JEADV. 2006;20(6):661–666. doi: 10.1111/j.1468-3083.2006.01559x
- Hiremutt DR, Mhapuskar AA, Singh P, et al. Comparison of anxiety and depression scores in patients with oral lichen planus and normal individuals. J Int Clin Dent Res Organ. 2020;12:140–147. doi: 10.4103/jicdro.jicdro_42_19
- Lukinyh LM, Tiunova NV. Lichen planus of the oral mucosa (etiology, pathogenesis, clinical picture, modern methods of treatment). Nizhny Novgorod: NGMA; 2013. 116 р. (In Russ).
- Pshennikova MG. The phenomenon of stress. Emotional stress and its role in pathology (lecture 5). In: Actual problems of pathophysiology (selected lectures). Ed. by B.B. Morozov. Moscow: Medicine; 2001. Р. 220–253. (In Russ).
- Lebedev VP. Transcranial electrical stimulation. Experimental clinical research. Vol. 3. Saint Petersburg; 2009. 392 р. (In Russ).
- Savchenko ES, Nazarov RN, Apchel AV, et al. Correction of psychovegetative disorders in the process of complex treatment of patients with chronic dermatoses. Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2012;3(39):107–110. (In Russ).
- Sizova VY, Volchanskiy EI. Vegetative and vascular changes in children with atopic dermatitis against the background of the use of transcranial electrical stimulation. Volgograd Med Sci J. 2011;(1):25–28. (In Russ).
- Silina LV, Yacun SM. The use of transcranial electrical stimulation in the complex therapy of acne. Palliative Med Rehabilitat. 2009;(1):30–32. (In Russ).
- Barkova SV. The effectiveness of the use of transcranial electrical stimulation in order to correct the psychophysiological status of patients with lichen planus of the oral mucosa. Bulletin VolGMU. 2007;(1):35–37. (In Russ).
- Tashiro M, Horikawa E, Mochizuki H, et al. Effects of fexofenadine and hydroxyzine on brake reaction time during car-driving with cellular phone use. Hum Psychopharmacol Clin Exp. 2005;20(7)501–509. doi: 10.1002/hup.713
- Orriols L, Luxcey A, Contrand B, et al. Road traffic crash risk associated with prescription of hydroxyzine and other sedating H1-antihistamines: a responsibility and case-crossover study. Accid Anal Prev. 2017;106:115–121. doi: 10.1016/j.aap.2017.05.030
- Kotova OV. Treatment of generalized anxiety disorder: approaches to treatment. Rational Pharmacotherapy. 2012;(1):87–91. (In Russ).
- Bekker RA, Bykov YU. Afobazol (fabomatizol): anxiolytic, and not only (Israeli-Russian view of the problem). Psychiatry Psychopharmacotherapy named after P.B. Gannushkin. 2017;19(4):12–21. (In Russ).
- Manolache L, Seceleanu-Petrescu D, Benea V. Lichen planus patients and stressful events. JEADV. 2008;22(4):437–441. doi: 10.1111/j.1468-3083.2007. 02458.x
- Hajretdinova KF, Yusupova LA. Comorbid anxiety and depressive disorders in patients with lichen planus, taking into account gender differences. Therapist. 2016;(11):34. (In Russ).
- López-Jornet P, Camacho-Alonso F. Quality of life in patients with oral lichen planus. J Eval Clin Pract. 2010;16(1):111–113. doi: 10.1111/j.1365-2753.2009. 01124.x
Supplementary files