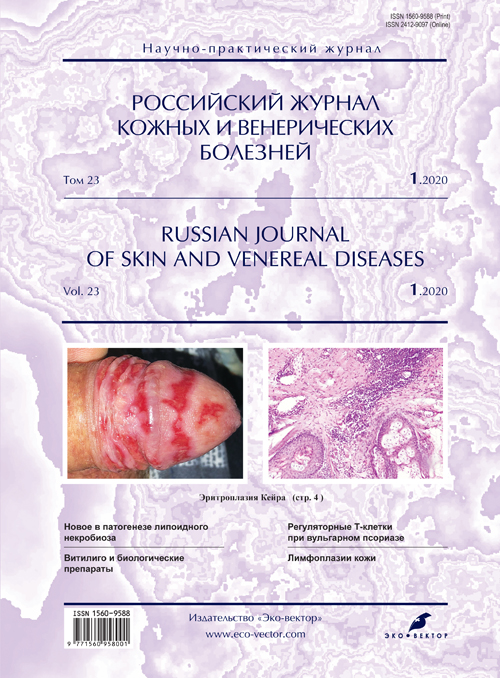Psychosomatic disorders associated with pruritus in patients with lichen planus (review)
- 作者: Dorozhenok I.Y.1,2, Snarskaya E.S.3, Mikhailova М.3
-
隶属关系:
- I.M. Sechenov First Moscow Medical University (Sechenov University)
- Mental Health Research Center
- I.M.Sechenov First Moscow Medical University (Sechenov University)
- 期: 卷 23, 编号 1 (2020)
- 页面: 42-49
- 栏目: CLINICAL PICTURE, DIAGNOSIS, AND THERAPY OF DERMATOSES
- ##submission.dateSubmitted##: 24.07.2020
- ##submission.dateAccepted##: 24.07.2020
- ##submission.datePublished##: 15.02.2020
- URL: https://rjsvd.com/1560-9588/article/view/41730
- DOI: https://doi.org/10.17816/dv2020142-49
- ID: 41730
如何引用文章
全文:
详细
This review examines the psychosomatic aspects of pruritus in dermatological practice, as well as chronic dermatoses associated with pruritus of psychosomatic disorders in a lichen planus model. As the leading nosogenic factor, skin itching is involved in the development of psychogenic, neurotic, and depressive disorders. Notably, psychosomatic disorders associated with itching form various comorbidities with phenotypic manifestations of lichen planus. The introduction of an integrated multidisciplinary approach into the clinical practice, with the inclusion of psychocorrectional techniques in basic dermatological treatment, can help to optimize the course of skin disease. The modern domestic and foreign sources of literature were reviewed.
全文:
В настоящее время достигнуты серьезные успехи в развитии одной из наиболее обширных и актуальных для изучения областей современной психосоматической медицины [1] – психодерматологии, включающей широкий спектр расстройств – от психогенных (стрессогенные манифестации кожных заболеваний, нозогенные реакции на проявления кожного заболевания) до тяжелых психотических с аутоагрессивным несуицидальным поведением, реализующихся на кожных покровах и слизистых оболочках [2].
Внимание исследователей все чаще обращается к клинико-биологическим аспектам взаимосвязи кожной и психической патологии, имеющим как фундаментально-базовый, так и практический выход в формировании обоснованных подходов к терапии и оптимизации течения кожного процесса. Показательной клинической моделью традиционно служат хронические рецидивирующие дерматозы, сопровождаемые выраженным зудом: красный плоский лишай (КПЛ), пруриго, атопический дерматит и другие дерматозы.
Наличие стойкого зуда у пациентов с хроническими дерматозами ассоциируется со значительной заболеваемостью, смертностью, снижением качества жизни, стигматизацией, тревогой, ухудшением настроения, нарушением концентрации внимания, снижением либидо и аппетита, алекситимией [3–5]. Хронические зудящие дерматозы порождают высокие уровни стресса, которые в свою очередь впоследствии могут провоцировать обострения заболевания [6]. В некоторых исследованиях среди пациентов с хроническим зудом отмечается, что стресс является одним из основных факторов, усугубляющих течение дерматоза [7].
В работах представителей ведущей отечественной психодерматологической научной школы на репрезентативном клиническом материале подробно анализируются феномены психогенного, соматоформного и амплифицированного зуда [8, 9]. Данные формы зуда нередко встречаются в клинической практике у пациентов с хроническими дерматозами, в частности при КПЛ, атопическом дерматите, псориазе и других дерматозах [10, 11].
Изучение психосоматических расстройств у больных КПЛ представляет собой особый интерес, прежде всего из-за наличия целого ряда нозогенных факторов – мучительного зуда, тяжело протекающих форм заболевания, распространенных массивных высыпаний, локализации высыпаний на открытых участках тела, в области половых органов, слизистой оболочки полости рта; социальной стигматизации, ограничения в бытовой и профессиональной деятельности; возможности злокачественной трансформации очагов поражения, а также в связи с нередкой стрессогенной (психогенной) обусловленностью манифестации/экзацербации дерматоза и наличием синдромальной коморбидности с аффективными расстройствами [12, 13].
Красный плоский лишай (lichen planus, LP) – хронический рецидивирующий воспалительный зудящий дерматоз, с не окончательно установленной этиологией и патогенезом, характеризующийся многообразием триггерных факторов.
Распространенность в общей популяции составляет 0,5–1,0%. Заболеванию подвержены как мужчины, так и женщины независимо от возраста и расовой принадлежности, но наиболее уязвимы женщины в возрасте от 30 до 50 лет. В общей структуре дерматологических заболеваний КПЛ составляет от 1,5 до 2,5%, а среди болезней слизистой оболочки полости рта и половых органов – 32% [14–17].
КПЛ имеет характерные клинические и гистологические особенности и, как правило, доброкачественное прогрессирование, однако наблюдаются и случаи малигнизации, особенно среди атипичных его вариантов [18–21].
S. Aghbari и соавт. [22] проанализировали 19 676 случаев КПЛ с поражением слизистой оболочки полости рта, при этом частота злокачественной трансформации в отдельных исследованиях варьировала от 0,3 до 14,3%. Среди выделенных факторов риска злокачественной трансформации этой формы КПЛ фигурируют мужской пол, курение, злоупотребление алкоголем, тогда как статистически значимой разницы между малигнизацией у пациентов с диабетом и без диабета не выявлено.
Выделяют следующие клинические формы КПЛ: типичную (классическую), гипертрофическую, атрофическую, буллезную, фолликулярную, пигментную, кольцевидную, линейную, зостериформную, монилиформную, гиперкератотическую, эритематозную. КПЛ слизистых оболочек и красной каймы губ также имеет несколько разновидностей – типичную, гиперкератотическую, экссудативно-гиперемическую, эрозивно-язвенную, буллезную, атипичную [23, 24]. При эрозивной форме слизистого КПЛ возможно развитие вульво-вагинального синдрома (ассоциация хронического эрозивного гингивита, хронического вульвита и эритематозно-эрозивного или десквамативного вагинита), что приводит к нарушению социальной адаптации пациента [25–27].
В некоторых случаях КПЛ поражает конъюнктиву, слизистые оболочки глотки, желудка, пищевода. Эзофагальный КПЛ – редкий, но серьезный по прогнозу вариант болезни, характеризующийся дисфагией, одинофагией или отсутствием симптомов, на поздних сроках может приводить к формированию стриктуры пищевода [23].
Типичные клинические проявления КЛП на коже включают наличие множественных мелких полигональных папулезных элементов розовато-фиолетового цвета. Папулы имеют плоскую блестящую поверхность с характерной исчерченностью, так называемой сеткой Уикхема. Процесс носит симметричный характер распространения, папулезные элементы имеют тенденцию к группированию, но в крупные бляшки не сливаются [18, 28].
Для островоспалительной стадии КПЛ характерно наличие изоморфной морфологической реакции даже на незначительную травму в виде возникновения характерных полигональных папул в месте воздействия, так называемый феномен Кебнера, также сопровождающийся мучительным зудом [29].
Наиболее частой, «излюбленной», локализацией высыпаний при типичной форме КПЛ является внутренняя поверхность запястий, зона лодыжек, однако при распространенных формах дерматоза тотально поражается кожа туловища, конечностей, промежности [14].
По данным многочисленных исследований, КПЛ в своем развитии имеет биологическую основу, включающую констелляцию генетических, эндокринных, метаболических, экзогенных (инфекционные, вирусные, токсические) и иммунологических факторов [30–33]. В обзоре европейских авторов со ссылкой на эпидемиологические исследования [34] обсуждается связь между КПЛ и инфекцией вируса гепатита С (HCV) с учетом значительных географических вариаций, предполагающих влияние генетических и экологических факторов. В основе данной ассоциации лежат несколько теорий, но ни одна из них не может четко объяснить патогенез КПЛ. Большинство исследований показывают, что кожные поражения являются результатом иммунного ответа организма пациента на вирусные агенты, но не прямого воздействия вируса.
По мнению китайских исследователей [35], патогенез КПЛ опосредован дисбалансом в системе подтипов Т-лимфоцитов и связан с аномальным иммунным ответом. По данным международной научной группы, гормональные, иммуномодулирующие и метаболические взаимодействия играют важную роль в развитии КПЛ. Так, пролактин обладает иммуностимулирующим действием и способствует развитию аутоиммунной реакции; стимулирует иммунный ответ, специфически воздействуя на индукцию толерантности B-клеток, усиливает пролиферативные реакции на антигены и митогены, а также увеличивает выработку иммуноглобулинов и цитокинов, таких как фактор некроза опухоли альфа (tumor necrosis factor alpha, TNFα), интерферон гамма (interferon gamma, IFNγ), интерлейкины (interleukin) IL-12, IL-1β и аутоантитела. Полученные результаты показали значительное снижение среднего уровня пролактина в фазе ремиссии, а также после лечения топическими глюкокортикостероидами по сравнению с таковым в фазе обострения. Авторы предлагают использовать определение показателей пролактина в сыворотке крови в качестве маркера активности КПЛ [36]. Кроме того, ученые пытаются биологически обосновать формирование нозогенных психосоматических расстройств при КПЛ, используя теорию оксидативного стресса. Ими было выявлено наличие прямой корреляции между снижением содержания мочевой кислоты с обострением КПЛ, когда более 50% пациентов сообщили о чувстве дистресса из-за дискомфорта, вызванного проявлениями КПЛ, в отличие от контрольной группы.
Исследователи из Вроцлавского медицинского университета [37] верифицируют зуд как идиопатический симптом у подавляющего большинства (94,9%) из 78 обследованных взрослых больных КПЛ. В динамике заболевания зуд распределялся следующим образом: 2/3 случаев во время терапии, 1/2 – при обследовании, 1/2 – во время рецидива КПЛ; примерно 1/3 пациентов испытывала зуд до манифестации высыпаний. Большинство пациентов считали зуд наиболее тягостным симптомом КПЛ, далее следовал собственно факт наличия кожных поражений; 80% больных испытывали зуд ежедневно, 15% – несколько раз в неделю и только 5% – менее 1 раза в неделю. Зуд чаще всего появлялся в вечернее время. У 80% пациентов зуд был ограничен областью поражения кожи, в то время как 19% испытывали зуд также и вне поражений. Здесь, по всей видимости, авторы констатируют наличие в клинической картине КПЛ элементов соматоформного зуда [2]. Зуд преимущественно регистрировался в области нижних, верхних конечностей и туловища; реже на лице, волосистой части головы и в других специфических местах (ступни, подмышки, затылок, кожные складки, ягодицы, аногенитальная область, ротовая полость). Генерализованный зуд был выявлен у 25,7% участников исследования.
Наиболее интенсивно зуд проявлялся при манифестации высыпаний у половины пациентов, при распространенном поражения кожи – у 17,6%, при выраженной степени тяжести кожного процесса – у 12,2%. В 16,2% случаев интенсивность зуда не зависела от фазы заболевания. Эпизоды зуда обычно длились более 10 мин или от 1 до 10 мин, реже эпизоды зуда продолжались менее 1 мин.
Дескриптивные характеристики зуда были сопоставимы с разработанными для соматоформных расстройств представителями ведущей отечественной психодерматологической научной группы коэнестезиопатическими феноменами [38] и представлены преимущественно как ощущение жжения, реже щекотания, потепления, разъедания или покалывания кожи. Кроме того, зуд часто считался обременительным и раздражающим, для некоторых испытуемых он также был неприятным и невыносимым. До 1/3 пациентов отмечали снижение настроения на фоне зуда, раннюю (трудности засыпания) и среднюю (пробуждения среди ночи) инсомнию. Почти все остальные испытывали беспокойство и нервозность, проблемы с концентрацией внимания, т.е. речь идет о клинических проявлениях тревожно-депрессивного аффекта на фоне зуда, выступающего в качестве ведущего нозогенного фактора [39].
С другой стороны, провоцирующее/усиливающее действие на зуд оказывали потливость, тепло, горячая вода и стресс. Здесь, с позиций современной психодерматологии, авторы описывают психогенную (стрессогенную) надстройку в виде амплифицированного зуда (в пользу чего можно трактовать также недостаточность/отсутствие эффекта антигистаминных препаратов, топических глюкокортикостероидов и фототерапии у части пациентов) [40].
Холодная вода и холодный воздух, кремы/мази, антигистаминные препараты, спирт, уксус; в нескольких случаях экскориирование зудящих участков временно облегчали зуд [37]. Исследователи не обнаружили достоверной связи между интенсивностью зуда, его локализацией, частотой и длительностью эпизодов, клиническими формами КПЛ, длительностью заболевания, длительностью текущего обострения, вовлечением слизистых оболочек, а также возрастом, полом, другими особенностями, что также указывает на отсутствие в данной работе клинического анализа психосоматического статуса пациентов.
В крупном немецком клинико-эпидемиологическом исследовании [41] были проанализированы данные 560 пациентов с зудом за период с 2007 по 2016 г., направленных дерматологами Мюнстера на психосоматическую консультацию, и выявлена психиатрическая/психосоматическая коморбидность зуда по МКБ-10 у 427 (77,1%) пациентов. Среди наиболее частых диагнозов (у 74,5%) фигурировал клинически малоинформативный «психологические/психосоматические сопутствующие факторы при зуде» (F54), депрессия (F32/F33/F34) отмечалась у 30,7%, расстройство адаптации (F43.2) ― у 17,8%, диссоциативное/соматоформное/ипохондрическое расстройство (F44/F45) – у 11,2%; тревожно-фобическое/обсессивно-компульсивное расстройство (F40/F41/F42) – у 6,6%, другие диагнозы – у 17% пациентов. Более одного психиатрического синдромального диагноза имели 44,7% больных, более 60% пациентов нуждались в психотерапевтическом или психиатрическом лечении. Пациенты с коморбидной психосоматической патологией среди общей дерматологической выборки с хроническим зудом чаще были моложе, женского пола, одинокие, без высшего профессионального образования, имели более высокие баллы по шкале зуда, более длительную продолжительность зуда, чаще с хроническими повреждениями в виде экскориаций мультифакторного происхождения, низкое качество жизни, высокий уровень тревоги и депрессии. При этом сами авторы констатируют серьезные ограничения примененного методологического подхода: из полученных данных нельзя сделать вывод о том, является ли выявленная психосоматическая патология причиной или следствием развития/амплификации зуда у пациентов с дерматозами. Кроме того, отсутствуют данные катамнеза, что не позволяет оценить результаты лечения психосоматических расстройств у пациентов с хроническим зудом.
Исследуя качество жизни у больных КПЛ, M. Radwan-Oczko и соавт. [42] зафиксировали определенную взаимосвязь между тяжестью КПЛ и психологическими (не вполне корректно обозначенными в названии работы как психопатологические) факторами. Более длительная продолжительность субъективных симптомов коррелировала со значительно более низким качеством жизни по шкале самоконтроля и более высоким уровнем стресса. Кроме того, наблюдалась отрицательная статистическая корреляция между длительностью субъективных симптомов и депрессией, т.е., чем дольше персистировала субъективная симптоматика, прежде всего зуд, тем выше был уровень депрессии (согласно психологическим шкалам). Корреляционный анализ показал значимую отрицательную корреляцию между уровнями стресса, тревоги, депрессии и качеством жизни. Высокие уровни стресса, тревоги и депрессии коррелировали с низкими баллами в областях общего благополучия, самоконтроля, общего здоровья, жизненных сил. Кроме того, более частое использование катастрофизации в качестве копинг-стратегии было обнаружено у пациентов с более высоким уровнем стресса. Несмотря на заявленный в названии статьи термин «психопатологические» и участие психиатров, работа выполнена в традиционно психологическом ключе, исключительно по шкалам, без попыток психопатологического анализа коморбидных КПЛ психосоматических расстройств, что находит отражение и в клинической значимости выводов как данного, так и большинства представленных ниже исследований.
M. Vilar-Villanueva и соавт. [43] выявили у 42 больных КПЛ при сравнении с группой контроля корреляцию тревожности и депрессии с зудом, болью, физической и социальной активностью, психологическим дистрессом. Тревожность коррелировала со средними баллами зуда и боли и высокими – психологического дискомфорта, тогда как депрессия – со средними баллами физической и социальной активности и высокими баллами зуда и боли, что подчеркивает выраженное нозогенное влияние зуда. По другим данным [44], при КПЛ преимущественно оральной локализации распространенность симптомов тревоги составила 39%, депрессии – 21%, дистресса – 28%. Интенсивность зуда и боли усугублялась при наличии сопутствующих заболеваний, курении и употреблении алкоголя. Было установлено, что алкоголь является независимым предиктором развития нозогенных расстройств при КПЛ. R. Pippi и соавт. [45] сообщают, что низкий самоконтроль и высокий уровень депрессии были в большей степени связаны с легкой, нежели с тяжелой формой КПЛ. Представленные данные согласуются с результатами других исследований [32, 46], на основании чего авторы предполагают, что психические расстройства являются не только следствием, но и одной из причин возникновения КПЛ.
Результаты современных исследований свидетельствуют о значительной распространенности психических расстройств среди больных КПЛ [47]. Наибольшую выраженность депрессии регистрировали у пациентов с локализацией КПЛ в полости рта и генитальной области [48]. При этом у женщин гипотимия была глубже, чем у мужчин, что коррелирует с данными о более высокой распространенности депрессии при КПЛ среди женщин [43]. Возможной причиной подобного соотношения ученые видят в том, что женщины имеют бо́льшую генетическую, физиологическую и психологическую предрасположенность к развитию депрессивных эпизодов [49]. Индийские дерматологи и психиатры обследовали 35 больных КПЛ преимущественно кожной локализации и коморбидными психическими расстройствами с применением обширной батареи шкал и опросников. У 25% пациентов была выявлена депрессия умеренной и выраженной степени. Женщин с депрессией оказалось значимо больше (77,77%), чем мужчин. Ухудшение по шкале дерматологического индекса качества жизни (ДИКЖ) отмечали 91% пациентов преимущественно с умеренной и тяжелой степенью заболевания. Основными жалобами выступали зуд/болезненность в очагах поражения (88,5%), сенситивность/ипохондрическая фиксация (80%), дискомфорт, связанный с нанесением мазей и приемом пероральных препаратов (77%). У пациентов отмечались трудности с покупками, а также в других социальных и досуговых мероприятиях. Больные стеснялись выходить из дома, прикрывали поражения закрытой одеждой [50].
Здесь авторы затрагивают обширную тему социо-фобических нозогенных реакций, в части случаев протекающих с сенситивными идеями отношения [51, 52], у пациентов с нарушениями образа тела (латентного или акцентуированного конституционального паттерна самовосприятия в виде уникального «интрапсихического представления» о собственной физической внешности), но не дают клинической квалификации указанных психосоматических нарушений, ограничиваясь лишь феноменологическим описанием.
В ряде работ [13, 40, 53] приведены данные по оптимизации ведения больных КПЛ и коморбидными психосоматическими расстройствами путем присоединения психотерапии и психокоррекционных фармакотерапевтических методик к базовому дерматологическому лечению.
Таким образом, обзор доступной литературы ярко иллюстрирует высокий научный интерес и крайнюю актуальность рассмотренной темы. Однако большинство современных исследований, оперирующих множеством шкал, опросников и оценочных методик, получают на выходе статистически насыщенные, но клинически крайне размытые данные, не способствующие корректной квалификации психосоматического статуса больных КПЛ. Авторы зачастую подменяют понятия, относящиеся, скорее, к личностным особенностям либо дискретным фрагментам статуса пациентов, психологическими терминами «тревожность/депрессивность», клиничес-кие/психопатологические категории психогенных (реактивных, нозогенных), невротических (тревожных, тревожно-фобических, ипохондрических) и аффективных (депрессивных) расстройств, имеющих различные типы коморбидности с кожным заболеванием. При этом многие исследователи упускают из фокуса своего внимания ключевые конституциональные особенности личности и соматоперцептивные акцентуации пациентов, ответственные за формирование клинической картины коморбидных КПЛ психосоматических расстройств.
Комплексное изучение и разработка ассоциированных с зудом психосоматических расстройств на модели КПЛ с позиций психосоматической медицины представляются весьма перспективными во многом благодаря и уникальному положению дерматоза, отличающегося существенной клинической выраженностью как соматогенных (прежде всего мучительный, изнуряющий характер зуда), так и психогенных (явления социальной тревоги) факторов в структуре нозогенного модуля общего психодерматологического континуума.
作者简介
I. Dorozhenok
I.M. Sechenov First Moscow Medical University (Sechenov University); Mental Health Research Center
编辑信件的主要联系方式.
Email: idoro@bk.ru
MD, PhD, Department of Psychiatry and Psychosomatics
俄罗斯联邦, Moscow, 119991; 115522, MoscowE. Snarskaya
I.M.Sechenov First Moscow Medical University (Sechenov University)
Email: idoro@bk.ru
ORCID iD: 0000-0002-7968-7663
Department of Skin and Venereal Diseases
俄罗斯联邦, Moscow, 119991М. Mikhailova
I.M.Sechenov First Moscow Medical University (Sechenov University)
Email: idoro@bk.ru
Department of Skin and Venereal Diseases
俄罗斯联邦, Moscow, 119991参考
- Smulevich A.B., Dorozhenok I.Yu., Ivanov O.L., Lvov A.N. Psychodermatological frustration. In: Butov Yu.S., Skripkin Yu.K., Ivanov O.L., eds. Dermatovenerology. National leadership. Short edition. Moscow: GEOTAR-Media; 2013: 406-13. (in Russian)
- Romanov D.V., Lvov A.N. Self-injury (non-suicidal) as a form of autodestructive behavior. In: Smulevich A.B., ed. Psychosocial disorders. Moscow: MEDpress-inform; 2019: 79-97. (in Russian)
- Reszke R., Szepietowski J.C. Itch and psyche: bilateral associations. Acta Dermatol. Venereol. 2020; 100(2): adv00026.
- Wang X.D., Yang G., Bai Y., Feng Y.P., Li H. The behavioral study on the interactive aggravation between pruritus and depression. Brain. Behav. 2018; 8(6):e00964.
- Brenaut E., Halvorsen J.A., Dalgard F.J., Lien L., Balieva F., Sampogna F., et al. The self-assessed psychological comorbidities of prurigo in European patients: a multicentre study in 13 countries. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2019; 33(1): 157-62.
- Lee H.G., Stull C., Yosipovitch G. Psychiatric disorders and pruritus. Clin. Dermatol. 2017; 35(3):273-80. doi: 10.1016/j.clindermatol.2017.01.008
- Schut C., Weik U., Tews N., Gieler U., Deinzer R., Kupfer J. Psychophysiological effects of stress management in patients with atopic dermatitis: a randomized controlled trial. Acta Dermatol. Venereol. 2013; 93(1): 57-61.
- Lvov A.N., Bobko S.I., Romanov D.V. Somatoform and amplified itch. Russian Journal of Skin and Venereal Diseases (Rossiyskii Zhurnal Kozhnykh i Venericheskikh Boleznei). 2013;16(4):39-43. (in Russian)
- Smulevich A.B., Dorozhenok I.Yu., Romanov D.V., Lvov A.N. Hypochondria sine materia as a psychosocial problem: a model of hipochondriac disorders realized in the cutaneous sphere. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. Russian Journal (Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova). 2012; 112(1):14-25. (in Russian)
- Basra M.K., Chowdhury M.M., Smith E.V., Freemantle N., Piguet V. A review of the use of the dermatology life quality index as a criterion in clinical guidelines and health technology assessments in psoriasis and chronic hand eczema. Dermatol. Clin. 2012; 30(2): 237-44. doi: 10.1016/j.det.2011.11.002.
- Michenko A.V., Lvov A.N. Atopic dermatitis: aspects of psychosomatic disorders. Mental Disorders in General Medicine. Russian Journal (Psihicheskie rasstroystva v obshchey meditsine). 2008; (1): 47-52. (in Russian)
- Cassol-Spanemberg J., Blanco-Carrion A., Rodriguez-de Rivera-Campillo M.E., Estrugo-Devesa A., Jane-Salas E., Lopez-Lopez J. Cutaneous, genital and oral lichen planus: A descriptive study of 274 patients. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal. 2019; 24(1):e1-7.
- Dorozhenok I.Yu., Snarskaya E.S., Shenberg V.G. Lichen planus and associated psychosomatic disorders. Herald of Venerology and Dermatology. Russian Journal (Vestnik dermatologii i venerologii). 2016; (4): 27-32. (in Russian)
- Goldsmith L.A., Katz S.I., Gilchrest B.A., Paller A.S., Leffell D.J., Wolff K. Fitzpatrick’s Dermatology General Medicine. McGraw-Hill Companies; 2012. vol.1.
- Lehman J.S., Tollefson M.M., Gibson L.E. Lichen planus. Int. J. Dermatol. 2009; 48(7): 682-94.
- Breathnach S.M. Lichen planus and lichenoid disorders. In: Bruns T., Breathnach S., Griffiths C., eds. Rook’s Textbook of Dermatology. 8th ed. UK: Wiley-Blackwell; 2010: 41.1−41.28.
- Rogers R.S., Eisen D. Erosive oral lichen planus with genital lesions: the vulvovaginal-gingival syndrome and the peno-gingival syndrome. Dermatol. Clin. 2003; 21(1): 91-8.
- Jimenez-Sanchez M.D., Ferrandiz L., Moreno-Ramirez D., Vallejo-Benitez A., Camacho-Martinez F. Erosive palmoplantar lichen planus. Actas Dermosifiliogr. 2012; 103(5): 448-50.
- Krasowska D., Bogaczewicz J., Chodorowska G. Development of squamous cеll carcinoma with lesions of cutaneous lichen planus. Eur. J. Dermatol. 2007; 17(5): 447-8.
- Giuliani M., Troiano G., Cordaro M., Corsalini M., Gioco G., Lo Muzio L., et al. Rate of malignant transformation of oral lichen planus: A systematic review. Oral. Dis. 2019; 25(3):693-709. doi: 10.1111/odi.12885
- Lopez-Jornet P., Cayuela C.A., Tvarijonaviciute A., Parra-Perez F., Escribano D., Ceron J. Oral lichen planus: Salival biomarkers cortisol, immunoglobulin A, adiponectin. J. Oral. Pathol. Med. 2016; 45(3): 211-7.
- Aghbari S.M., Abushouk A.I., Attia A., Elmaraezy A., Menshawy A., Ahmed M.S., et al. Malignant transformation of oral lichen planus and oral lichenoid lesions: A meta-analysis of 20095 patient data. Oral. Oncol. 2017; 68:92-102. doi: 10.1016/j.oraloncology. 2017.03.012
- Gorouhi F., Davari P., Fazel N. Cutaneous and mucosal lichen planus: a comprehensive review of clinical subtypes, risk factors, diagnosis, and prognosis. Sci. World J. 2014;2014:742826. doi: 10.1155/2014/742826.
- Payeras M.R., Cherubini K., Figueiredo M.A., Salum F.G. Oral lichen planus: Focus on etiopathogenesis. Arch. Oral Biol. 2013; 58(9):1057-69.
- Alves M.G., do Carmo Carvalho B.F., Balducci I., Cabral L.A., Nicodemo D., Almeida J.D. Emotional assessment of patients with oral lichen planus. Int. J. Dermatol. 2015; 54(1):29-32.
- Lehman J.S., Tollefson M.M., Gibson L.E. Lichen planus. Int. J. Dermatol. 2009; 48(7):682-94.
- Mansur A.T., Kilic Z., Atalay F. Psychological evalution of patients with cutaneous lichen planus. Dermatol. Psychosom. 2004; 5(3):132-6.
- Dovzhanskiy S.I., Slesarenko N.A., Utts S.R. Lichen planus. Saratov: Saratov State Medical University; 2013. (in Russian)
- Goldsmith L.A., Katz S.I., Gilchrest B.A., Paller A.S., Leffell D.J., Wolff K. Fitzpatrick’s Dermatology General Medicine. McGraw-Hill Companies; 2012. vol.1.
- Payette M.J., Weston G., Humphrey S., Yu J., Holland K.E. Lichen planus and other lichenoid dermatoses: Kids are not just little people. Clin. Dermatol. 2015; 33(6):631-43.
- Carrozzo M., Scally K. Oral manifestations of hepatitis C virus infection. World J. Gastroenterol. 2014; 20(24):7534-43.
- Valter K., Boras V.V., Buljan D., Juras D.V., Susic M., Panduric D.G., Verzak Z. The influence of psychological state on oral lichen planus. Acta Clin. Croat. 2013; 52(2):145-9.
- Alaizari N.A., Al-Maweri S.A., Al-Shamiri H.M., Tarakji B., Shugaa-Addin B. Hepatitis C virus infections in oral lichen planus: A systematic review and meta-analysis. Aust. Dent. J. 2016; 61(3): 282-7.
- Georgescu S.R., Tampa M., Mitran M.I., Mitran C.J., Sarbu M.I., Nicolae I., et al. Potential pathogenic mechanisms involved in the association between lichen planus and hepatitis C virus infection. Exp. Ther. Med. 2019; 17(2):1045-51.
- Yang X.Y., Zhang S.N., Li X.Z., Wang Y., Yin X.D. Analysis of human serum metabolome for potential biomarkers identification of erosive oral lichen planus. Clin. Chim. Acta. 2017; 468:46-50.
- Gupta A., Mohan R.P., Gupta S., Malik S.S., Goel S., Kamarthi N. Roles of serum uric acid, prolactin levels, and psychosocial factors in oral lichen planus. J. Oral Sci. 2017; 59(1):139-46. doi: 10.2334/josnusd.16-0219
- Welz-Kubiak K., Reich A., Szepietowski J. Clinical aspects of itch in lichen planus. Acta Dermatol. Venereol. 2017; 97(4):505-8.
- Smulevich A.B., Dorozhenok I.Yu., Romanov D.V., Lvov A.N. Psychopathology of mental disorders in a dermatological clinic. Mental Disorders in General Medicine. Russian Journal (Psihicheskie rasstroystva v obshchey meditsine). 2012; (1):4-14. (in Russian)
- Schneider G., Driesch G., Heuft G., Evers S., Luger T.A., Stander S. Psychosomatic cofactors and psychiatric comorbidity in patients with chronic itch. Clin. Exp. Dermatol. 2006; 31(6):762-7.
- Kubanova A.A., ed. Dermatovenerology. Clinical recommendations. Moscow: DEKS-Press; 2010. (in Russian)
- Schneider G., Grebe A., Bruland P., Heuft G., Stander S. Chronic pruritus patients with psychiatric and psychosomatic comorbidity are highly burdened: a longitudinal study. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2019; 33(8):e288-91.
- Radwan-Oczko M., Zwyrtek E., Owczarek J.E., Szczesniak D. Psychopathological profile and quality of life of patients with oral lichen planus. J. Appl. Oral Sci. 2018; 25:e20170146.
- Vilar-Villanueva M., Gandara-Vila P., Blanco-Aguilera E., Otero-Rey E.M., Rodriguez-Lado L., Garcia-Garcia A., Blanco-Carrion A. Psychological disorders and quality of life in oral lichen planus patients and a control group. Oral Dis. 2019; 25(6):1645-51.
- Zhan Y., Zhou S., Li Y., Mu S., Zhang R., Song X., et al. Using the BITOLA system to identify candidate molecules in the interaction between oral lichen planus and depression. Behav. Brain Res. 2017; 320:136-42.
- Pippi R., Romeo U., Santoro M., Del Vecchio A., Scully C., Petti S. Psychological disorders and oral lichen planus: Matched case-control study and literature review. Oral Dis. 2016; 22(3):226-34.
- Ivanovski K., Nakova M., Warburton G., Pesevska S., Filipovska A., Nares S., et al. Psychological profile in oral lichen planus. J. Clin. Periodontol. 2005; 32(10):1034-40.
- Cerqueira J.D.M., Moura J.R., Arsati F., Lima-Arsati Y.B.O., Bittencourt R.A., Freitas V.S. Psychological disorders and oral lichen planus: A systematic review. J. Investig. Clin. Dent. 2018; 9(4):e12363. doi: 10.1111/jicd.12363
- Manczyk B., Golda J., Biniak A., Reszelewska K., Mazur B., Zajac K., et al. Evaluation of depression, anxiety and stress levels in patients with oral lichen planus. J. Oral Sci. 2019; 61(3): 391-7.
- Ramsey J.M., Cooper J.D., Bot M., Guest P.C., Lamers F., Weickert C.S., et al. Sex differences in serum markers of major depressive disorder in the Netherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA). PloS One. 2016; 11(5):e0156624. doi: 10.1371/journal.pone.0156624.
- Sawant N.S., Vanjari N.A., Khopkar U., Adulkar S. A study of depression and quality of life in patients of lichen planus. Sci. World J. 2015;2015;817481. doi: 10.1155/2015/817481.
- Gieler U. Psychodermatology and cosmetic-surgical dermatology – a contradiction? J. Dtsch. Dermatol. Ges. 2007; 5(9):729-34.
- Matyushenko Е. Body dysmorphic disorder: Psychopathology in dermatological patients. Acta Dermatol. Venereol. 2011; 91(2):242.
- Delavarian Z., Javadzadeh-Bolouri A., Dalirsani Z., Arshadi H.R., Toofani-Asl H. The evalation of psychiatric drug therapy on oral lichen planus patients with psychiatric disorders. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal. 2010; 15(2):e322-7.
补充文件